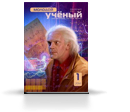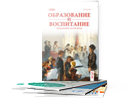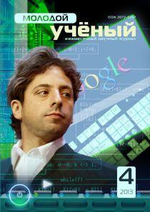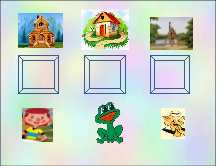Группа, возраст : разновозрастная общеразвивающей направленности старшего возраста, 5–7 лет
Тема: «Играем вместе с фиксиками»
Цель : создать условия для удовлетворения потребностей детей в активных движениях, самостоятельных действиях, развития у детей познавательной инициативы, любознательности в процессе познавательно-исследовательской деятельности на прогулке.
Программные задачи:
- Способствовать познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому, социально-личностному развитию детей.
- Развивать внимание, ловкость, смекалку, воображение, наблюдательность в процессе совместной деятельности
- Способствовать умственному развитию, формировать у них новые впечатления и знания об окружающем мире.
- Учить самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, строить выводы.
- Оптимизировать двигательную активность детей, учить ориентироваться на месте.
Планируемый результат:
- Ребенок активен в познании окружающего мира (проявляет исследовательскую активность).
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
- Ребенок умеет излагать свои идеи и предложения, задает вопросы.
- Ребенок способен в приветливой доброжелательной форме обратиться к сверстникам с просьбой о помощи, доброжелательно ответить на просьбу.
Место проведения : территория детского сада
Пособие и оборудование: воздушный шарик, карта, разделенная на фрагменты, бумажный конверт, капсула, карточки с заданиями, пластмассовая дуга, ленточки, различные предметы (коробочки) по количеству игроков, большой пазл ковер-самолет, карточки с буквами и слогами, игрушка-сова, сундук с замком, игрушечные пчёлки, ключ.
Форма проведения: квест
Ход образовательной деятельности
|
1 этап. Мотивация и целеполагание |
Дети выходят на прогулку. На ручке входной двери привязан воздушный шар. Ребята! Что это за шарик? Кто- нибудь знает? Может кто-то из вас его принес в сад?(ответы) Посмотрите, внутри шарика что-то есть! Давайте посмотрим, что же внутри! Воспитатель «лопает» шарик. Внутри дети находят письмо и фрагмент рисунка напоминающего карту. Воспитатель зачитывает письмо: «Здравствуйте, ребята! Мы — ваши любимые фиксики! Каждый день мы наблюдаем за вами и знаем, какие вы дружные, веселые, любознательные дети! Мы решили вас порадовать и приготовили для вас подарок! Подарок вы найдете по карте, но чтобы получить карту, вам придется выполнить 5 сложных заданий! Карта на дожде размокла. Ее части разлетелись по всей территории. Соберите утерянные части, сложите карту и найдите подарок. Фиксики» Дети, вы готовы?!(дети отвечают) Тогда вперед! В письме часть карты, смотрите.. Ищите указатели! Дети вместе с воспитателем рассматривают фрагмент карты, понимают, что нужно двигаться к метеоплощадке. |
|
|
2 этап. Совместна продуктивная деятельность, поиск выхода из проблемной ситуации |
||
|
1становка (Метеоплощадка) |
Ребята, смотрим внимательно! Нет ли здесь чего-то необычного, чего не было раньше? Дети исследуют метеоплощадку, находят капсулу с заданием «Установи связь», вспоминают название мультфильма, определяют кто, в каком домике живет
Молодцы, ребята! Отлично справились! Открываем капсулу! В ней следующий фрагмент карты, рассмотрев которую, дети приходят к выводу, Что дальше нужно бежать к уголку сказок («У Лукоморья»). |
|
|
2остановка (У Лукоморья) |
Смотрите, ребята! Перед нами преграда! Это волшебные ворота. (пластмассовая дуга, на ней на ленточках привязаны различные предметы, по количеству игроков.) Каждый ребенок выбирает один предмет, открывает его, находит фрагмент пазла-картинки. Вместе дети собирают этот пазл (картинка ковер-самолет) Какие вы молодцы! Ведь в сказку можно попасть только на сказочном транспорте! А какой сказочный транспорт вы еще знаете? (ответы) Правильно! Садимся на наш ковер-самолет и летим к уголку сказок! Смотрите, ребята! У нашего ученого кота в лапках бумажный сверток, он похож на старинную грамоту! Давайте посмотрим, что же там изображено! Воспитатель вместе с детьми рассматривает грамоту, понимают, что это следующий фрагмент карты, который ведет нас дальше к птичьему столбу. |
|
|
3 остановка (Птичий столб) |
Прибежав к птичьему столбу, дети замечают в кормушках карточки с изображением букв, и Мудрую Сову. Сова рассказывает ребятам, что ее карточки перепутались, и она просит детей помочь ей, взамен на фрагмент карты, который ей оставили фиксики. Ребята рассматривают карточки с буквами, сортируют их на гласные-согласные. Затем следующие карточки со слогами складывают в слова.(молоко, сова, кран и т. д.) Сова благодарит детей, отдает им карту, дети рассматривают ее, понимают, что следующая остановка- Спортивная площадка |
|
|
4 остановка (Спортивная площадка) |
Спортивная площадка с песчаным покрытием расчерчена и поделена на сектора. Ребят встречают Симка и Нолик (переодетые няни) Здравствуйте ребята! Мы приготовили для вас очень не простое задание! Вам нужно уметь ориентироваться на местности. Мы будем говорить вам, куда двигаться. Нолик и Симка проводят игру «ориентировка в пространстве» Дети, следуя указаниям фиксиков, постепенно попадают в нужный сектор. В песке находят последний фрагмент карты, который ведет их в Этнический уголок. |
|
|
5остановка (Этнический уголок) «Деревня» |
Ребята сразу обращают внимание на красивый сундук с большим замком. Посмотрите, дети, мы собрали все фрагменты карты (во время всего квеста карта постепенно склеивалась воспитателем)! Это наша последняя остановка! Как же нам открыть сундук? Воспитатель обращает внимание детей на то, что на сундуке, возле замка, нарисованы пчёлки. Такие же игрушечные пчёлки сидят на подсолнухах. Там и нужно искать! Дети находят среди пчёлок ту, у которой ключ. Воспитатель открывает замок! |
|
|
3 этап. Рефлексия: Что же в сундуке? Это же большой Лего-конструктор! Как и обещали фиксики, очень интересная и увлекательная вещь! Мы сможем играть, фантазировать вместе! Ребята, посмотрите еще раз на карту! Давайте вспомним, где мы были, что делали? Что вас удивило? Вам понравилось играть в игру, которую для вас придумали фиксики? О чем расскажете мамам и папам дома? |
||
Литература:
- Фомина Н. А. Как провести квест-игру в детском саду [Электронный ресурс]/ https://melkie.net/page/2(дата обращения 01.12.2018 г).
- Чуприна С. А. Квест-технология и опыт ее применения в образовательном процессе ДОУ при реализации требований ФГОС ДО. [Электронный ресурс]/ https://infourok.ru/masterklass-dlya-pedagogov-kvest-tehnologiya-i-opit-ee-primeneniya-v-obrazovatelnom-processe-dou-pri-realizacii-trebovaniy-fgos--1903002.html.