Эпоха Мэйдзи[1] (1868–1912) — это настоящий сюрприз истории для Страны восходящего солнца. То, чего Европа добивалась столетиями, Япония достигла за полвека, в итоге оказавшись в первом ряду человечества. И не последнюю роль в этом сыграли японские писатели и переводчики эры Мэйдзи, точнее, их пытливый ум и творческая воля.
Сегодня трудно поверить, но тогдашний японец не знал, что такое почта, банк, полиция, суд, избирательная система. У него не было и географических карт мира. Поэтому для преодоления национального невежества приходилось даже издавать учебники в стихах, где «традиционным японским размером в пять и семь слогов излагались основные сведения по географии и истории мира» [9]. Нечего и говорить о естественных науках, медицине, экономике, промышленной инженерии — цивилизационный разрыв был просто чудовищный. Добавим сюда застывшую в веках литературу конфуцианского толка.
И вот в таком социокультурном контексте появляется писатель, которому было суждено навсегда войти в историю японской литературы и переводоведения самым оригинальным образом — его послали к чёрту . Так возникло имя Фтабатэй Симэй . В русском же переводе оно звучит как « чтоб ты сдох ». Это, пожалуй, единственный в истории случай, когда инвективный посыл стал любимым авторским псевдонимом[2]…

Фтабатэй Симэй
Фтабатэй Симэй, урождённый Хасэгава Тацуноскэ, появился на свет в Эдо[3] за четыре года до начала Мэйдзи (1864). Его отец был самураем низшего ранга, заведовал охотхозяйством феодала. Или, выражаясь старым языком, служил у него сокольничим. Мать происходила из семьи торговца родом из Нагои. Имя Тацуноскэ ему дали в честь дедушки по отцу.
В семье царили старые нравы и порядки. Тацуноскэ сызмальства приучали к чинопочитанию. Он всегда замирал при виде отца, строгого и немногословного, с военной выправкой, носившего тёммагэ[4] и, казалось, никогда не расстававшегося с мечом. Домашнее воспитание сводилось к чётким указаниям и правилам. Ему часто твердили: «Человек с именем — это важный человек![5]» — что означало необходимость дорожить своим родовым именем, честью, никогда не терять лица. Но политические реформы эпохи Мэйдзи стремительно разрушали патриархальный уклад и не щадили приверженцев сёгунского режима.
После того, как усадьбы феодалов в Эдо стали изыматься новыми властями, отец отправил семью в Нагои, где жили бабушка и дедушка Тацуноскэ по матери. Там мальчика зачислили в тэракоя[6], начальную школу для детей самураев. А его наставником стал Номура Акитари, пожилой, уважаемый учёный-конфуцианец, преподававший китайский язык и литературу. Впрочем, главным учебным предметом была «дисциплина», иначе говоря, практика морали. Это означало, что право учиться имел тот, кто был учтив и скромен, честен и человеколюбив дома и вне дома, выполнял свой сыновний долг, ладил с другими детьми, не отлынивал от посильного труда. То есть на первом месте стояла воспитательная работа. И лишь после неё наступал черёд китайской литературы, которая опять же была в назидательном духе. По сути, Хасэгаву обучали конфуцианской этике.
Вскоре нудные нравоучения стали претить любознательной натуре Тацуноскэ. И он попросился на курсы французского языка, которые вёл опальный военный учёный и переводчик по имени Хаяси Сейдзюро[7]. В Нагое он был в ссылке, и местная знать отправляла к нему своих чад изучать «картавый» язык, с которого были переведены на японский очень понравившиеся невзыскательной публике романы Верна. К тому же иностранный язык помогал развивавшейся торговле. Так рассуждала и семья матери Тацуноскэ, открывшая ему путь к лингвистике.
Нагойский период стал, по воспоминаниям писателя, самым удивительным отрезком в его жизни. Впервые он попал в волшебный мир незнакомого языка, где всё казалось необычным: звуки, алфавитное письмо, грамматика. Это было для него настоящим открытием! С каким восторгом он рассказывал дома о буквах, из которых можно составить любое слово, с гордостью демонстрировал своё умение грассировать. А ещё французские пословицы и поговорки, в которых подмечено то, о чём сам бы ни за что не догадался! И, конечно, это свобода от отцовского воспитания. Ему многое позволяли, многое прощали. В присутствии отца такое поведение мальчика было невозможно. В том числе его приобщение к чуждой культуре и языку! Справедливости ради, нужно отметить, что, несмотря на модное по тем временам воспитание Хасэгавы, его мать оставалась истинной японкой, верной национальным обычаям и традициям. Она же привила сыну любовь к чтению и рисованию. Часто, гуляя с ним вдоль нагойского канала, она рассказывала ему о древней истории города, его замке, легендах, героях. И однажды сравнила отца Тацуноскэ с сятихоко[8], который охранял их семью от всех бед: «Пока наш сятихоко не упал, с нами ничего плохого не случится!» Этот образ врезался в память писателя на всю жизнь.
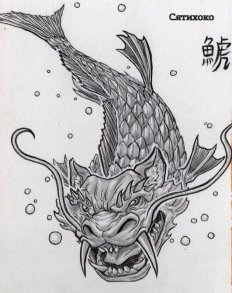
Однако свобода Тацуноскэ продлилась не долго. Отец, узнав обо всём, сильно негодовал. Ведь в своём наследнике он видел будущего военного, государева человека, продолжателя самурайского рода. Поэтому тогда же забрал семью в Мацуэ, город с очень консервативными традициями. Сына определил в среднюю школу, где обучение велось по местной программе [13]. Но главное — записал его на курсы Утимуры Юсукэ, знаменитого педагога и мыслителя того времени. Он читал лекции по японской и китайской литературе, философии, истории страны и государственному строительству, в основе которого лежала новая теория ( синрон ), утверждавшая, что верность императору есть главное условие сыновней почтительности. А социальный порядок определялся, как и прежде, пятью классическими принципами морали, предполагающие естественное подчинение нижестоящих вышестоящим: начальник — подчинённый; отец — сын; муж — жена; старший брат — младший брат; старший друг — младший друг. Только так можно прийти к благоденствию. Это была всё та же конфуцианская схоластика, но в новой обёртке. Как бы там ни было, но впоследствии Хасэгава гордился тем, что был учеником Юсукэ, у которого обучались будущие выдающиеся государственные деятели: президент школы права Токийского императорского университета и автор Гражданского кодекса Кэндзиро Умэ, министр финансов, а затем и премьер-министр Рейдзиро Вакацуки, руководитель японского спорта Сейити Киши и др.
После окончания средней школы отец приводит сына в Общество патриотов[9], членом которого был сам. И уже как юноша-«патриот», имеющий льготы, Хасэгава идёт поступать в офицерскую школу сухопутных войск, но не проходит медицинскую комиссию по зрению. Тацуноскэ обескуражен. А отец возмущён. Сначала он встречается с влиятельными людьми, потом находит доктора для сына и на следующий год снова отправляет его поступать в военное учебное заведение. Результат тот же: сильная близорукость не позволяет Тацуноскэ стать курсантом этой школы. Отцовская мечта — увидеть сына в чине генерала — полностью разбита. Тогда соратники отца предлагают определить его в школу Сеншу[10], пару лет назад открывшуюся в Эдо и имевшую очень хорошие перспективы. Там изучали экономику и право, а её преподавателями были профессора, получившие образование за границей. Впоследствии выпускники школы могли претендовать на должность дипломатов. В итоге так и поступили, несмотря на все финансовые трудности семьи, связанные с образованием сына.
Обучение в школе Сеншу стало огромным шагом вперёд в развитии юноши. Там впервые в научном свете ему расскажут о политических системах в Европе и Америке, о естественном праве, институте частной собственности и о многом другом. Но более всего его тянуло на курс английского языка. Программно он был скоротечным, но самым любимым у Тацуноскэ. Давно забытое чувство радости от изучения французского языка в Нагое вспыхнуло в нём с новой силой. Только ради этого стоило учиться! Именно там произошёл окончательный поворот Хасэгавы в сторону лингвистики.
Имея на руках свидетельство об окончании школы Сеншу, будущий писатель идёт в Токийскую школу иностранных языков[11] и подаёт документы на отделение русского языка, т. к. студенты там содержались и обучались за казённый счёт. Но дело было не только в этом. Как пишет японский исследователь С.Накамура, Хасэгава «считал, что в будущем во взаимоотношениях России и Японии произойдут большие события, и он, как настоящий патриот, должен помочь своей стране» [13]. Конкурс в школу был огромный. Из 250 абитуриентов, собравшихся со всей страны, в неё смогли поступить лишь 48 человек. Но уже через месяц, когда проверили способности учащихся к усвоению русского произношения, в ней осталось 25 студентов, среди них был и Хасэгава [22].
Важным было и то, что на этом отделении школы и все остальные дисциплины преподавались на русском языке: физика, химия, математика, риторика и история русской литературы. С момента его открытия ведущим профессором был Лев Мечников, брат знаменитого физиолога Ильи Мечникова. По основному образованию он был географ, владел 9 языками, в том числе японским. В молодости участвовал в освободительной войне под началом Гарибальди, после ранения перебрался в Швейцарию, примкнул к анархистам, занимался литературным творчеством и наукой. В Японию его пригласил князь Оямо Ивао, будущий маршал, который в то время получал военное образование в Швейцарии. На кафедре Лев Мечников запомнился своими лекциями о бесправии рабов в Древнем Риме, о реформах Петра I, а также своей «географической» теорией прогресса: рабы могут осваивать только реки, наполовину свободные — моря, и лишь свободные люди — океаны.
Хасэгава не учился у самого Льва Мечникова, но его «дух космополитизма» передавался в лекциях его коллег. Одним из них был Николай Грей[12], русский политический эмигрант, имевший американское гражданство и приглашённый в Японию по рекомендации Мечникова [6]. Иногда, забыв всякую осторожность, тот отклонялся от темы лекции, резко критикуя абсолютистский режим России, чем приводил в изумление молодую аудиторию императорской Японии. Именно Грей стал любимым преподавателем Тацуноскэ. Вот что он писал в своих воспоминаниях: «Профессор давал нам читать лучшие произведения видных писателей России. И я постепенно попал под влияние их литературных произведений. Нередко книги были в единственном экземпляре. Тогда Грей читал нам их с кафедры. Учащиеся внимали чтению, а затем им предлагалось написать сочинение на русском языке. Он тщательно исправлял ошибки в сочинениях красными чернилами. Н.Грей проделывал это почти ежедневно» [13]. Изучались произведения Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Карамзина, Гончарова, Толстого и др. Незаметно Хасэгава был пленён русской литературой 19 века и её демократическими идеями…

Н. В. Чайковский (Грей)
Словом, молодость Тацуноскэ пришлась на период культурного подъёма и борьбы с «вредными обычаями прошлого». Так, школьное образование стало обязательным, открылись первое женское педагогическое училище, первый детсад и первый университет. Под девизом « буммэйкайка [13]» шёл процесс вестернизации обычаев и нравов японского общества. Например, один за другим выходили указы императора, запрещавшие самураям то носить мечи, которые с незапамятных времён были символом их доблести и чести, то — традиционную причёску тёммагэ, что совсем уравнивало их с простыми людьми. В обиход законодательно входили европейское платье и костюмы, мужчины вместо хакама [14] стали носить брюки, а женщины вместо кимоно — блузки, юбки, сарафаны. Зубы перестали чернить. В ресторанах и закусочных появилось скияки [15] (блюдо из говядины), которое, безусловно, стало гастрономической приметой нового времени, западного образа жизни. В 1872 г. был отменён традиционный лунный календарь и введён григорианский. А выходными днями стали суббота (с 12 часов) и воскресенье вместо «выходных по единицам и шестёркам», т. е. дням, выпадавшим на числа 1, 6, 11, 16, 21 и 26. Между крупными городами появилось железнодорожное сообщение и телеграфная связь. В Токио строились большие кирпичные дома в европейском стиле с газовым освещением улиц. В свете экологической модернизации, призывавшей японцев к переосмыслению отношения между человеком и миром природы, в Токио открылся первый зоопарк. И было ещё одно немаловажное обстоятельство. Именно тогда появилось новое слово бунка (культура). И «это слово стало звучать намного чаще, чем слово буммэй (цивилизация)» [11].
Эти и другие события воспринимались обществом по-разному. По всей стране, то там, то здесь, вспыхивали восстания самураев, недовольных политикой нового правительства, которая привела большинство из них (400 тыс.) к обнищанию и утрате своих привилегий. Студенческая молодёжь, напротив, поддерживала прогрессивные изменения и не хотела возврата в «тёмные времена». Раскол произошёл и в семье Хасэгавы, между отцом и сыном.
Поскольку отец не понимал и не принимал литературу, то и не допускал мысли о писательской карьере сына. Одно дело — переводы, совсем другое — романы. Первое необходимо в работе дипломата, второе — занятие для бездельников. Всё им формулировалось чётко, по-военному. За этим стояла железная воля отца, который, правда, не заметил, что сын вырос, и у него есть своё мнение. Оно рано или поздно должно было прозвучать. Это случилось в тот период, когда Тацуноскэ оставил учёбу в школе иностранных языков из-за конфликта с его руководством, не доучившись всего два месяца. Он пришёл домой и заявил, что хочет стать писателем.
Вот как об этой истории вспоминал один из его сокурсников. «Отец Тацуноскэ, услышав новость, вспылил. Начал говорить о том, что тот позорит их имя. И тут мой товарищ не выдержал: «Где ваше тёммагэ, отец? Где ваш меч? Вы ещё не поняли — всё изменилось. Имя уже не возносит человека, теперь оно есть у каждого бродяги[16]». Отец, уязвлённый замечанием сына, произнёс слова, которые станут известны всему миру: «Тогда кутабаттэ-симэй [17] — вот тебе имя». Так начиналась творческая биография Фтабатэя Симэя …
***
Во второй половине 80-х годов XIX века в Японии появился первый профессиональный переводчик-русист. Им стал Фтабатэй Симэй. До него произведения русских писателей переводились с английского и французского языков. Переводы были, мягко говоря, неэквивалентными. В угоду читающей публике, привыкшей к интригующим названиям и быстро развивающимся сюжетам, переводчики не столько переводили, сколько мастерски переделывали произведения. Например, в 1883 г. вышла в свет книга «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки». Его фабула сводилась к любовным перипетиям между главными героями — Мэри, Смитом и Дантоном. Русские имена исчезли уже в англоязычном варианте. Кстати, в русской версии была ещё одна сюжетная история — Пугачёвский бунт, но в результате двойной адаптации (перевода с английского на японский язык русского произведения) и об этой культурно-исторической реалии в переводе не сказано ни слова. А речь идёт ни много ни мало об исторической повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»! Такова была переводческая традиция. «Жертвой» подобной доместикации стало множество переводов художественной литературы того времени, и не только русской.
Одним из первых на эту «нелепую подделку» обратил внимание Фтабатэй Симэй. Он решил «исправить» это недоразумение, взявшись за перевод повести Н. В. Гоголя «Нос» [8]. Текст перевода объёмом в два десятка страниц Фтабатэй показал своему другу и учителю Цубоути Сёё. Тот, якобы, заметил, что в ходе спора супружеской пары (между Иваном Яковлевичем и Прасковьей Осиповной) женская речь звучит грубо[18], её нужно переписать. На что Фтабатэй парировал тем, что европейской женщине несвойственно изъясняться как японке, и, вообще, на Западе — равноправие, а поэтому нет никакой специфики женской речи [22]. Так или иначе, текст перевода не сохранился и никогда не публиковался. Та же судьба постигла перевод романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», названный им «Нравы нигилистов». Он остался незаконченным. Фтабатэй столкнулся с трудностями перевода языковых и культурных реалий. Сложность перевода заключалась в том, что вся художественная проза писалась на специальном литературном языке — бунго . Как отмечает В. М. Алпатов, это старописьменный язык с орфографией, далёкой от реального произношения, старой грамматикой и архаичной лексикой, он застыл в своём развитии где-то на рубеже XIII века и в эпоху Мэйдзи уже давно потерял разговорную основу [1].
А таким языком просто невозможно было переводить Гоголя и Тургенева, т. к. в нём отсутствовали те самые средства разговорного языка, простонародного наречия, разного рода жаргонизмы, которые необходимы для передачи своеобразия произведений и Гоголя, и Тургенева. Особенно это касалось языка Гоголя. В ход повествования тот не только «ввинчивал» просторечные слова, но и использовал разговорный синтаксис. «С помощью эмоционально-вводных оборотов, эллиптически-экспрессивных выражений, модальных слов и частиц, изменений в порядке слов, с помощью экспрессивно-интонационных модуляций сообщающей речи Н. В. Гоголь придаёт повествованию необыкновенную сложность и разговорное многообразие модально-интонационных вариаций в структуре предложений» [2]. Вот с чем столкнулся Фтабатэй. И перед ним встала грандиозная задача — создавать новый литературный язык на разговорной основе, который так и называли — кого , т. е. разговорный язык.
Однако, как оказалось, новый язык был лишь половиной проблемы. Не менее важным был вопрос о целях и функциях художественной литературы вообще, и в особенности вопрос о художественном методе. Ведь повести, романы и пьесы, даже переведённые, пишутся для кого-то и чего-то , о чём в японской литературе было не принято рассуждать, тем более строить теории. А вот о том, как надо писать повести и романы, даже вопрос не возникал. Первым об этом заговорил Цубоути Сёё. В 1885 году вышел в свет его трактат «Сущность романа». В нём он критикует пошлую развлекательность и оторванные от народной жизни нравоучения как ложные цели японской литературы. Как пишет Н. И. Конрад, Цубоути отверг и то, и другое, поскольку и развлекательность, и поучения искажали действительность, жертвовали правдивостью, лишь бы выходило эффектно [9]. Как следствие, появляется призыв к объективному реализму, что было совершенно необычно для того времени. «Роман должен вскрывать тайное в человеческих чувствах, показывать законы сердца.… И, изображая чувства людей, не определять по своему разумению, что это — хорошо, то — плохо, это — правильно, то — ложно. Нужно стоять рядом с ними и, наблюдая как бы со стороны, описывать так, как оно есть» [9]. Так считал Сёё. Его книга была первой попыткой привить читателям новые представления о литературе, объяснить им, какая литература существует вообще, что такое жанр и художественный метод. В своих рассуждениях он поднимал литературу до уровня подлинного искусства, критикуя досужие представления о писателях как о скоморохах-сочинителях.
Несмотря на всю серьёзность и новизну работы, она не выдерживала критики. Да и сам автор впоследствии признавал, что «теория романа была построена на шатких основах». Однако первым её критиком стал Фтабатэй Симэй. К тому времени он уже познакомился с идеями Гегеля, Белинского о роли искусства. И он пишет критическую статью «Общая теория романа». В ней автор соглашается с Цубоути в том, что литература — это искусство. Но при этом Фтабатэй понимал его не как зеркальное отображение жизни, а как мышление в образах (по Белинскому). Причём для убедительности использовал художественный приём, который «подсмотрел» у Тургенева в романе «Рудин» — музыкальный экфрасис[19]. Рассуждая о правде жизни, Фтабатэй вспоминает средневековые музыкальные жанры — « сказы киёмото » и « баллады токивадзу [20]», которые вызывают настоящие переживания. Чувства и являются, по мнению автора, залогом мудрости, естественным способом извлечения скрытой силы из окружающей нас действительности. В своей работе Фтабатэй чётко разделял познание научное от познания эстетического. Литература осознавалась им, по мнению А. Р. Садоковой, как особая форма познания реальности, противопоставленная понятийному мышлению [17]. Он прекрасно понимал, что «писатель не должен копировать действительность, механически описывать то, что видит вокруг себя, он должен творчески воспроизводить её при помощи своей фантазии» [цит. по Садоковой]. Цубоути был, по мнению Симэя, прав, когда писал в своей «Сущности романа»: «Главное — описание чувства, потом уже нравов и обычаев... Чувство — это мозг произведения». Действительно, объектом литературы должна быть психология человека. Бесспорно и то, что нравы и обычаи имеют второстепенное значение. Но при этом, полагал он, не описанием чувств должна заниматься литература, а исследованием . Вот только что может быть средством литературного анализа психического мира героя? Он был убеждён, что это средство — событие! Однако множественность и случайность событий реальной жизни часто затемняют смысл происходящего. Поэтому в романе, считал Фтабатэй, необходимо выделить существенные события и создать ясный образ действительности средствами воображения и языка . Как отмечают Гришелева и Чегодарь, Фтабатэй признавал подлинным явлением художественной литературы только реалистический роман, в котором вымысел ( кёсо ) выступает в одеждах реальности ( дзиссо ) [3]. Именно в этом заключалось главное различие двух теорий. И оно проявило себя в их художественных произведениях.
Крайне любопытна существовавшая тогда традиция — подтверждать теорию на практике. Цубоути написал роман-иллюстрацию «Нравы студентов нашего времени» по «рецепту» своей теории, изложенной в статье «Сущность романа». Чуть позже Фтабатэй опубликовал роман «Плывущее облако», написанный по канонам своей «Общей теории романа». Оба романа изображали реальную жизнь, а его героями стали люди, которых авторы знали лично. Студенты получились забавные, не очень-то обременённые учёбой, попадающие то в пикантные, то в нелепые ситуации. Правда, писателю так и не удалось выписать индивидуальные черты, раскрыть характер героев, за исключением одного-двух, по мнению японских критиков. И главное — автор не смог освободиться от влияния традиции литературы гэсаку [21], характер которой определялся вкусами третьего сословия — купцов и ремесленников. И написано произведение всё тем же языком бунго . «Плывущее облако», напротив, стало новаторским произведением. Впервые в истории японской литературы была поставлена задача раскрыть психологию героев. Как подчёркивал сам автор в интервью, вышедшем в петербуржской газете «Слово» 11 января 1909 года, незадолго до его смерти, на его роман сильно повлиял Достоевский, точнее, созданные им психологические образы. В романе, по словам Фтабатэя, он «рисовал старую и новую Японию. В старой Японии было много предвзятости, дурного ветра и невежества, но был крепкий фундамент. Новая Япония, наоборот, была ярче и лучше, но в ней не было никакого фундамента, всё плавало (отсюда и «Плывущее облако») на поверхности, всё было непросто» [15]. Рисуя образ главного героя, он описывал его внутреннюю борьбу с самим собой, его размышления, сомнения, душевные страдания, то есть писатель сделал определённый шаг по пути создания психологического романа, которого не знала домэйдзийская литература [3]. Но в ещё большей степени новаторским стал язык произведения. Его герои заговорили так, как в реальной жизни, в быту. Конечно, полностью освободиться от бунго ему не удалось, но и этого было достаточно, чтобы удивить и литераторов, и читателей, открыть дорогу к кого — новому литературному языку.
По мере осознания теоретических вопросов и развития практических навыков, связанных с японской словесностью, Фтабатэй возобновляет и переводческую деятельность. Идеи о новом языке и художественном методе помогли ему определиться и с целью перевода — предельно точно передавать художественные и смысловые особенности подлинника . Для того чтобы перевод произведения был эквивалентным исходному тексту и адекватным японскому читателю, он станет методично применять свою проверенную опытом творческую формулу : воображение и язык порождают образы , которые указывают на идеи (смыслы). Только в перевёрнутом виде : поняв замысел автора оригинала, нужно найти подходящие образы и как можно точнее передавать его стиль и язык . Тем самым он изменит существовавшую до него практику художественного перевода. И начнёт с самого простого — названий книг. Симэй откажется от традиционного вычурного стиля, для которого были характерны длинные и туманные заголовки. Он сделает их короткими и конкретными. Так, например, повесть Тургенева «Ася» с лёгкой руки Фтабатэя превратится в «Неразделённую любовь», «Старосветские помещики» Гоголя — в «Людей прежних лет», а повесть Максима Горького «Ошибка» — в «Двоих сумасшедших». Так он передавал суть и идею произведения, делал его доходчивым для японцев, которые не могли разобрать культурных реалий типа старосветский помещик, а имена собственные типа Ася , по его словам, звучали для японского уха по меньшей мере странно.
Фтабатэя по праву можно считать первым японским тургеневедом. Переводчик отлично знал всю тургеневскую прозу, и большинство его произведений он перевёл на японский язык. В 1888 г. вышли в свет первые два из более чем 30 переводов Фтабатэя Симэя — рассказы русского классика «Свидание» и «Три встречи». Их публикация стала большим событием в японской литературе нового времени. «Во-первых, в этих переводах он выступил стилистическим новатором, реформатором современного японского литературного языка. Во-вторых, русская природа, очарование которой было блестяще передано переводчиком, в частности, красота русского леса, пространства, игры света и тени на листве деревьев, открыла японцам глаза на красоту природы севера своей собственной страны» [8].
Как пишет академик Н. И. Конрад, эти произведения оказали сильнейшее влияние на японских писателей-реалистов Доппо и Катай — создателей реалистического романа XX века [9]. Что до Фтабатэя, то он сумел понять и передать «поэтическую идею» Тургенева. Он её представлял в виде образа — поздней весны, когда вишни в полном буйном расцвете, но уже стали осыпаться. И «в этой красоте сквозит какая-то грусть, вот это и есть поэтическая идея Тургенева. И поскольку все его романы проникнуты этим же духом, этим же настроением, то вполне естественно, что при переводе нужно сохранять это настроение» [16].
Впрочем, и сам Фтабатэй говорил о культурной разнице в восприятии пейзажа: «Японские писатели, рисуя средствами языка пейзаж, привыкли воспринимать этот пейзаж в линейной перспективе; соответствующим образом выбирали они и языковые приёмы. В тургеневском пейзаже они почувствовали глубину пространства, светотень» [20]. Вдобавок, тургеневский пейзаж играет особую роль в повествовании. Сегодня это бы назвали сеттинг — повествовательный приём, где описываемая обстановка инициирует основной фон и настроение рассказа. Или, как считает венгерский переводчик и литературовед Ж.Хетени, это способ, «при помощи которого слово теряет своё поле однозначности, выступает за пределы непосредственного понимания, приём сотворения виртуальной, второй действительности, которая создаётся автором из элементов, заимствованных из первой действительности» [21]. Иными словами, за описанием той же природы у Тургенева спрятана человеческая эмоция, чьей проекцией становятся события и сами герои. Например, в его рассказе «Свидание» (1850) природа — это как бы пейзаж души, где василёк — уже и не луговой цветок (первая действительность), а наивная любовь девушки (вторая действительность). Так, судя по всему, это и поняли современники Фтабатэя, литературные критики и писатели эпохи Мэйдзи. Как пишет Г. Д. Иванова, «японские читатели были … ошеломлены новой для них манерой описания природы — её олицетворением», хотя они «всегда ощущали органическую близость к природе, но в их литературе природа никогда не «улыбалась», не «шушукалась», не «лепетала», она не участвовала в переживаниях человека» [7]. Иначе говоря, такая нарративная аллегория была для них совершенно новым и необычным явлением.
Эти рассказы («Свидание» и «Три встречи») Фтабатэй переведёт заново через восемь лет. В 1896 г. они войдут в его первый сборник переводов «Неразделённая любовь». Событие значительное не только для него, но и для всего японского переводоведения. Он существенно переработает свои тексты, устранит большинство лакун, с которыми не смог справиться ранее. Найдёт разумный компромисс между форенизацией и доместикацией текста оригинала. Например, откажется от точного копирования синтаксических конструкций, несвойственных японскому разговорному языку. Но сохранит мелодичность тургеневской прозы. Как говорил сам традуктолог, он никогда не приступал к переводу, не прочитав произведение вслух. Фтабатэй хотел непременно услышать эмоцию. Как ни странно, это помогало ему преодолевать трудности в переводе. Так, по словам переводчика Такаямы Акиры, было со словом «люблю». Дело в том, что в те времена это слово не употреблялось даже в разговоре между юношами и девушками. Таковы были общественные нормы. И как тогда перевести слова тургеневской Аси: «Нет, нет, я никого не хочу любить, кроме тебя…»? Фтабатэй нашёл адекватный способ, позволяющий сохранить смысл и мелодику речи: «Нет, нет, я не о ком, кроме тебя, не хочу и думать» [22].
С переводом слова «любовь» ему снова пришлось весьма усердно потрудиться, работая уже над романом Тургенева «Рудин», вышедшим, кстати, под названием «Плывущая трава». Там этому слову соответствует 14 различных синонимов. Фтабатэй подбирал слова в зависимости от силы чувств, конкретной ситуации и характера взаимоотношений между персонажами. «Благодаря этому Фтабатэй добился такой точности и правдивости в описании переживаний тургеневских героев, что это привело в восхищение японских читателей и критиков» [22]. Но не только «любовь» вызывала у него творческие муки. Он с трудом справлялся и с такими, например, языковыми реалиями как народность и космополитизм , которые использовались героями «Рудина» в своих спорах. Эти слова были лингвистическими лакунами в японском языке. Поэтому в этом и похожих случаях он поступал двояко: либо пользовался системой атэдзи [22] , либо — приблизительным переводом. Причем в случае с атэдзи иероглифы записывались рядом со строкой. Такова была давняя японская литературная традиция — разъяснять читателю непонятное слово тут же, по ходу.
«Рудин» стал любимым романом Фтабатэя. Многие исследователи творчества писателя находят немало общих черт между Рудиным и Бундзо, главным героем романа «Плывущее облако». Проблема «лишнего человека», никогда раньше не поднимавшаяся в японской литературе, нашла своё отражение в этом романе. Однако он выписывал своего героя не как Тургенев, а как Достоевский. По словам Фтабатэя, «Достоевский и Тургенев придерживаются противоположных взглядов на описание человека. Первый ассимилируется с героем, т. е. автор остаётся внутри персонажа, второй же находится вне персонажа и относится к нему более или менее критически». По признанию Симэя, его как писателя более привлекала авторская ассимиляция с персонажем в духе Достоевского [8]. Без сомнения, роман «Рудин» показывал японцам другую грань духовной жизни. А обострённое чувство социальной справедливости, воспитанное в Симэе русской литературой, привело его к написанию трёх томов «Плывущего облака».
Непростые «отношения» сложились у Фтабатэя с творчеством Гоголя. Первый переводческий экзерсис был неудачным. Во-первых, у него совсем не было опыта, а во-вторых, по мнению Е. М. Дьяконовой, «перевод Гоголя на любой язык занятие неблагодарное, чрезвычайно затруднительное, так что слово «перевод» не отражает существа дела, в нашем понимании это творческая работа по «узнаванию» и воссозданию гоголевского текста на другом языке» [4]. Так что к нему Фтабатэй вернулся спустя много лет, будучи уже зрелым мастером. Даже хорошо владея своим ремеслом, он понимал, какая работа его ожидает. Поэтому сначала завёл записные книжки, в которые собирал старую и новую японскую лексику, передающую смысл русских реалий в произведениях Гоголя. Туда же он тщательно записывал гоголевские приёмы: личный тон автора, гротескная композиция, нагнетание наречий, нанизывание определений, речевые эмоции, игра слов, паузы в речи, замечания в «сторону» и пр. Особое внимание уделял фразеологизмам и метафорам. Большой сложностью для всех японских переводчиков Гоголя была индивидуализированная речь героев, чего никогда не существовало в японской литературе. «Передать ее оказалось почти невозможно в связи с регламентированностью литературного языка бунго » [4]. Поэтому ему пришлось импровизировать с разговорным языком. Ведь главное для Фтабатэя было передать дух произведения. Таким образом, только после основательной проработки материала и определения границ возможного он приступал к переводу гениальных сочинений русского классика.
При жизни Фтабатэя было опубликовано три повести Гоголя в его переводе. Первым появился «Портрет». В 1907 г. выходят «Старосветские помещики» и почти следом — «Записки сумасшедшего». Японские критики единодушны в том, что Фтабатэю удалось точно передать атмосферу подлинника, характер героев, широту таланта и глубину мысли русского гения. Но насколько его перевод эквивалентен оригиналу? Вот здесь мнения расходятся. Большинство его современников считало допустимым вмешиваться в творчество автора оригинала с целью адаптации текста к нормам своей культуры. Другие говорили об избыточной вольности его переводов. Хотя сегодня это не считается чем-то неправильным. В рамках так называемой интерпретационной стратегии перевод рассматривается как восстановление рационального и эмоционального смысла. Иначе, по словам Фтабатэя, непременно нужно, чтобы перевод был адекватен духу оригинала. Именно к этому он и стремился. Например, он часто использовал китаизмы для передачи сарказма. Так, в повести «Портрет» название книги «Всегда стоял за правду» переведено как «Стоит непоколебимо». Речь идёт о картине Чарткова, на которой некий сановник стоит с гордым видом, положив руку на книгу с таким названием. Здесь фоновые знания[23] представлены в форме оксюморона «правда и сановник» (в самый-то расцвет крепостничества!), что, конечно, было непонятно для японского читателя. А значит, перефразирование тут совершенно оправдано, ибо слова «стоит непоколебимо», помимо очевидного комизма положения, вызывали у японцев определённые национально-культурные реминисценции, и как считал Фтабатэй, схожие с нашими ассоциациями. Другой пример. В переведенной повести «Люди прежних лет» Фтабатэй использует диалект деревенских жителей эпохи Эдо для передачи специфики речи супружеской пары, помещиков Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, хотя в оригинале диалектизмов нет. К словам он добавляет окончание типа словоерса[24]. Как замечают японские критики, тем самым Фтабатэй незаметно русские характеры превращал в японские, облегчая чтение произведения, и к тому же вызывал ностальгию по ушедшим временам.
Благодаря переводам Фтабатэя Симэя японцы впервые познакомились и по-своему поняли Гоголя. Его произведения поразили их новыми сюжетами, героями, образами, идеями, метафорами. Недаром же японские русисты и критики говорили о Гоголе как о «великом таланте» (Цубоути Сёё), «первом и лучшем писателе натуральной школы» (Накадзава Ринсэн), а ещё как о «великом юмористе» (Хатано Кадзухиро), от природы обладающим «фантастическим восприятием действительности» (Кимура Такаси) и создавшем образы, которые представляют собой «смесь изящного и грубого» (Нобори Сёму). В то же время японцы благодарны Фтабатэю за « гэмбун итти [25]» — сближение книжного языка с разговорной речью, что, несомненно, способствовало расширению читательской аудитории и распространению грамотности. В Японии Фтабатэя сравнивают с великим Данте, ибо считают сопоставимым то, что и тот и другой делали для создания своего литературного языка, понятного всем соотечественникам.
Тургенев и Гоголь — это творческие полюса переводчика. То, с чего он начал свою переводческую деятельность, и то, чем по большому счёту завершил её. Считается, что благодаря этим периодам он и стал знаменитым у себя на родине. Хотя «середина» его творческой жизни, на наш взгляд, не менее интересная и уж точно более разнообразная, чем её «полюса»…
Немало внимания Фтабатэй уделял переводу произведений военной тематики. И это вполне объяснимо. Воспитанный в самурайских традициях, с юности мечтавший о военной карьере, более того, будучи очевидцем японо-китайской (1894–1895 гг.) и русско-японской (1904–1905гг.) войн, он не мог обойти стороной эту важную тему в то время, когда вся страна «работала на фронт». Причём его, как литератора, интересовали различные аспекты этой жизненной драмы. Так, пример героизма он нашёл в очерке Ю. Л. Ельца «Амурская героиня». Это реальная история о малоизвестной сибирячке А. И. Юдиной, проявившей подлинное мужество при осаде Благовещенска. Вот что о ней писал автор: «…в эти критические минуты, когда все потеряли голову, когда чуть не руками пришлось рыть ложементы, из среды благовещенцев явилась женщина, подвиг которой затмил прославленную и причисленную к лику святых Жанну Д’Арк, и это не фраза» [5].

Благодаря её самоотверженным действиям удалось снять трёхнедельную осаду мирного города. По обмелевшему Амуру под градом китайских пуль Анастасия Исаевна в одиночку пригоняла лодки, необходимые для переправы наших войск на противоположный берег. «Она вышла в трудную, опасную минуту из толпы и, исполнив требуемое, скромно в ней затерялась, неоценённая никем» [5]. Эта история потрясла Фтабатэя до глубины души. Ведь Юдина была совсем не похожа на тех прекрасных тургеневских девушек, которые раньше восхищали его. В этом рассказе он увидел, прежде всего, большой дидактический смысл. Поэтому опубликовал перевод в женском журнале — в назидание своим соотечественницам.
Следующим был перевод рассказа Л. Н. Толстого «Рубка леса», вышедший под заголовком «Винтовка в изголовье». Думается, неслучайно именно этот очерк появился в самом начале русско-японской войны 1904–1905 гг. В нём внимание Фтабатэя привлекла портретная характеристика русских солдат, которая дана от лица рассказчика, командира артиллерийского взвода. Там довольно подробно даётся описание военных типажей времён Кавказской войны 50-х гг. XIX века. Все солдаты, по мнению юнкера, делятся на три категории: покорных, начальствующих и отчаянных. У каждой категории имеется 2–3 подкатегории. Чаще других встречается тип покорного хладнокровного, отличительная черта которого «…есть ничем несокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его» [19]. Фтабатэй рассматривал «Рубку леса» не иначе как художественно-документальный нарратив писателя. Поскольку он знал, что Толстой сам был артиллеристом и воевал на Кавказе. Его очерк — это автобиографичная вещь. А перевод Фтабатэя впервые давал японцам представление о русском солдате как о стойком, неприхотливом и исполнительном воине.
Война — это ещё и большая человеческая трагедия. Поэтому Фтабатэй считал необходимым показать японцам «окопную правду» войны. И правильнее на это посмотреть глазами непосредственного участника сражений. Вот почему он взялся за перевод рассказа В. М. Гаршина «Четыре дня». Известно, что сам автор был участником русско-турецкой войны и лично видел её изнанку, её ужас. Это подлинная история о четырёх мучительных днях раненого солдата, забытого на поле брани. Чтобы выжить, он взял фляжку с водой у убитого им неприятеля. Им оказался египетский феллах[26]. Он понимает, что тот пришёл на войну не по своей воле. И с этого момента сюжет смещается в сторону моральных терзаний героя. Перевод Фтабатэя дал японцам редкую возможность узнать и понять душевный склад русского человека. Ведь главное тут — «совестливость… даже в таком отчаянном положении человек думает о собственной вине, невзирая на страх, боль и жажду» [12].
Спустя несколько месяцев, Фтабатэй снова обращается к творчеству Гаршина. На этот раз он переводит его рассказ «То, чего не было» (японское название — «Трава без корней»). Это красивая аллегорическая притча о мире и жизненных ценностях, о которых рассуждают разные животные. Он опубликовал перевод в национальной газете «Асахи Симбун». И неожиданно для себя получил на него положительный отклик критиков, которые враз заговорили об актуальности и востребованности такого рода литературы. Впрочем, Симэй и сам был склонен к философским раздумьям и поискам смысла жизни. Поэтому один за другим стали выходить его переводы произведений М.Горького на философские и морально-этические темы. Так появились рассказы «О сером», «Дед Архип и Лёнька» (по-японски «Нищие»), «Каин и Артём», «Тоска», «Ошибка» («Двое сумасшедших»). Этот выбор отнюдь не случайный. Фтабатэя интересовала не только социальная проблематика, но и художественные приёмы, с помощью которых изображались драматические картины жизни, — от аллегории до гротеска. В этой связи особый интерес вызывает перевод повести «Ошибка». Японские критики заметили, что Фтабатэй, переименовав рассказ, сместил фокус читательского восприятия. Ему было важнее показать то, что привело к сумасшествию, нежели то — в чём ошибка. Поэтому он стремился, прежде всего, передать вербальный процесс «заражения» бредовыми идеями, от одного к другому. Вспомним, что сначала Кравцов как-то «подцепил вредную идею», которая, как нещадный вирус, стала стремительно модулировать его сознание. В конечном счете, он возомнил себя пророком, главная цель которого — создать «будку всеобщего спасения». Затем Кравцов вербально «заразил» Ярославцева. В результате у Фтабатэя — «Двое сумасшедших». Тогда как русские критики поняли «Ошибку» Горького иначе: «… смысл названия рассказа не в том, что одному сумасшедшему доверили дежурить у другого душевнобольного, а в том, что многие правильные слова Кравцова — о гибели людей, о спасении человечества, о праве на подвиг — считаются безумными. И главная « ошибка » жизни в том, что она устроена так, что такие слова произносит только безумный» [18].
В данном случае Фтабатэй проявил себя как прозаик ярче, чем как переводчик. Ему впервые пришлось препарировать «кривые» души, излагая это по-японски. Повествование стало погружением в поток сознания , а сумасшествие героев оказалось эффективным литературным приёмом , позволяющим автору показать быстрый процесс опустошения души, съёживания её в безумную точку. Эта техника настолько поразила Симэя, что он почти сразу взялся за перевод рассказа Леонида Андреева «Красный смех» (японское название «Кровавый смех»). Тогда же появился и перевод повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего». Помимо невероятного гротеска и безудержной фантасмагории, эти рассказы роднит один и тот же художественный приём — повествование от лица безумца, хотя гневиужас у Андреева выражены сильнее, чем у Гоголя. Любопытно и другое. Если Гоголь два года «вживался» в образ сумасшедшего[27], то Андреев боялся сойти с ума во время написания своего рассказа. Поэтому и закончил его по-быстрому, за девять дней. А Фтабатэй мучительно работал над обоими переводами в течение полугода, стараясь точно донести до японского читателя дух разочарованных писателей….
Время от времени Фтабатэй брался за собственное сочинительство. Спустя 20 лет после публикации «Плывущего облака» вышел второй роман писателя «Его облик». В нём Фтабатэй снова поднимает романтическую тему погубленной любви. Развязка в романе сильно напоминает финал «Рудина». Образ главного героя, интеллегента-идеалиста, во многом перекликается с героем «Плывущего облака». Однако новый роман получился лучше предыдущего. Сказался опыт переводческой деятельности. Благодаря этому опыту он научился искусству обрабатывать сюжет, строить повествование, в арсенале писателя появились новые выразительные средства, даже новая пунктуация. Именно в эпоху Мэйдзи стали употреблять вопросительный знак, не говоря уже о «вульгаризмах», чего раньше не знала японская литература.
Положительные отзывы на «Его облик» вдохновили Симэя на его следующий роман «Обыкновенный человек», который вышел в свет уже через год. Роман носит автобиографический характер. В нём автор вспоминает своё детство, юношеские увлечения, зрелые годы. И как отметили Гришелева и Чегодарь, «Фтабатэй сумел вплести в ткань живого, пронизанного юмором повествования серьёзные рассуждения о литературе, выразить свою философию жизни. Это был один из первых в новой японской литературе исповедальных романов. В дальнейшем этот жанр, который стали называть «повестью о себе», или эгороманом ( сисёсэцу ), получил в Японии широкое распространение» [3].
Как постскриптум к «Обыкновенному человеку» можно считать его сочинение «Записки ревностного мужа», созданное, кстати, на русском языке. «Записки» написаны в форме личного дневника. Там Симэй рассказывает о своей неудавшейся семейной жизни. Их опубликуют только после смерти писателя.
Незаурядный талант Фтабатэя проявился и в его переводах на русский язык произведений японских писателей. Заметим, что переводить художественную литературу с родного языка на иностранный — явление нечастое среди переводчиков. Правда, за всё время им было переведено всего три произведения. Так, в 1908 г. в первом и втором номерах журнала «Восток[28]» была напечатана русскоязычная версия рассказа Мори Огай «Танцовщица». В том же году в третьем, четвёртом и пятом номерах был опубликован перевод рассказа Куникида Доппо «Мясо и картофель». Вопросы, поставленные в этом рассказе, волновали Фтабатэя всю его творческую жизнь. Главный из них оригинальным образом поставлен в самом названии. После ужина собравшиеся молодые люди спорят на тему «идеал и действительность». Поскольку отужинали они мясом с картошкой, то и приняли чисто символически картофель за идеал, а мясо — за действительность. Один справедливо замечает, что невозможно воплотить идеал в действительность. Картофель никогда не станет мясом. И что же тогда делать? Другой категорически заявляет, что он — за мясо. «Одним картофелем не прожить. От идеалов тощаешь», — заключает тот. «Но ведь к мясу полагается и картофель, не правда ли?» — спрашивает очередной участник беседы. Так закручивается сюжет. И далее все умозаключения собеседников оказываются выведенными из жизненного опыта. Этот рассказ, по словам Фтабатэя, напомнил ему о начале литературной карьеры, когда он сам выбирал между мясом и картофелем .
Что касается третьего произведения, то это была пьеса «Ночное нападение братьев Сога», переведённая специально для известного русского журналиста и писателя В. И. Немировича-Данченко, брата знаменитого режиссёра. Он приехал в Японию как корреспондент газеты «Русское слово», а его гидом стал Фтабатэй, в то время сотрудник газеты «Асахи». Когда русского гостя пригласили в театр но , Симэй и сделал этот перевод, чтобы тот понял, о чём пьеса.
Многогранный талант Фтабатэя Симэя неожиданно для всех раскрылся и в популяризации эсперанто. Этим языком он увлёкся ещё во время своей работы в Маньчжурии в 1902 году. Тогда он познакомился с Ф. А. Постниковым, военным инженером, капитаном, который возглавлял общество «Эсперо» во Владивостоке. Симэй стал членом русского общества эсперантистов и регулярно посещал лекции Постникова по международному языку. И вскоре влюбился в эсперанто. Наделённый лингвистическим даром, он быстро освоил язык. Вернувшись домой, взялся за написание первого в Японии учебника по эсперанто. Он появился в 1906 г. На одной из первых страниц был помещён портрет Фёдора Алексеевича Постникова с надписью «Отец эсперанто-движения в Японии». Следом вышла и его «Хрестоматия эсперанто». Свой учебник он послал Постникову уже в Калифорнию, куда тот эмигрировал вместе с семьёй в 1905 году. Там, в г. Беркли, он организовал местное общество эсперантистов, став его президентом, а потом — и в штате Арканзас. Его переписка с Фтабатэем продолжалась несколько лет. Они мечтали о том дне, когда эсперанто станет мировым языком, с помощью которого установятся широчайшие международные контакты, оба «выражали горячее желание преодолеть барьер, разделяющий людей разных стран» [7].
В последние годы Фтабатэй активно занимался журналистикой. Если раньше его публицистические работы появлялись спорадически, как отклик на какую-либо актуальную литературоведческую тему, то с начала XX века его статьи стали выходить намного чаще. Большинство его публикаций было посвящено общественно-литературной жизни России. Японцы проявляли неподдельный интерес к тому, как устроена жизнь, быт других народов, какие у них есть традиции, обычаи и пр. Поэтому такие статьи, как «Заметки о русской столице», изначально были редакционным поручением. Самого же Симэя интересовала русская классика. В своих работах, начиная с первой статьи «Взгляды Каткова[29] на искусство» и до самой последней «Влияние русской литературы на японскую», он раскрывал природу литературного творчества великого северного соседа.
Литература:
- Алпатов В. М. Япония: язык и общество — М.: Муравей, 2003–208 с.
- Виноградов В. В. О языке ранней прозы Гоголя — М., 2003. С. 40
- Гришелева Л. Д., Чегодарь Н. И. Японская культура нового времени. Эпоха Мэйдзи. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. — 240 с.
- Дьяконова Е. М. Узнавание и неизвестность. О судьбе Н. В. Гоголя в Японии //100 лет русской культуры Японии. М., 1989. С. 113–135.
- Елец Ю. Л. Амурская героиня — М.: Типография А. С. Забалуева, 1901. С.33
- Иванова Г. Д. Русские учителя // 100 лет русской культуры Японии. М., 1989. С. 11–21.
- Иванова Г. Д. Русские в Японии XIX — начала XX в. Несколько портретов. — М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. — 170 с.: ил.
- Киносита Т. Поэтика Достоевского в творчестве японских писателей Фтабатэя Симэя и Нацумэ Сосэки // Достоевский: материалы и исследования. СПб., 1997. Т.14. С.266–272
- Конрад, Н. И. Очерки японской литературы. — М.: Художественная литература, 1973. — 462с.
- Конрад,Н. И. Японская литература: От «Кодзики» до Токутоми. — Москва: Наука, 1974. — 565 с
- Кодзаи, Ёсисига. Современная философия: Заметки о «Духе Ямато»/ Сост., пер. с яп. и авт. предисл. Л. Ш. Шахназарова; АН СССР. Ин-т философии. — Москва: Наука, 1974. — 206 с.
- Мелихов А. М. Самый чистый, самый искренний и самый симпатичный. // Новая Юность. — 2014. — № 5 (122)
- Накамура С. Японцы и русские — М.: Прогресс, 1983. — 302с.
- Рёхо Ким. Достоевский и японский реалистический роман конца XIX в., «Народы Азии и Африки», 1972, № 1
- Рёхо Ким. Последнее интервью Фтабатэя Симэя. // Конференция «Интерпретации японской культуры: взгляд из России и из Японии», РГГУ, г. Санкт-Петербург, 01.11. 2007г.
- Садокова А. Р. У истоков японского реализма: «Общая теория романа» Фтабатэя Симэя // Памятники литературной мысли Востока. — М.: ИМЛИ РАН, 2004. — 464 с.
- Садокова А. Р. Белинский и новая японская литература // Филология и лингвистика. № 1 (10), 2019
- Сахарова Е. «Черный монах» Чехова и «Ошибка» Горького // А. П. Чехов: сборник статей и материалов. — Ростов н/Д.: Ростовское книжное изд-во, 1959. — С. 233–253
- Толстой Л. Н. Рубка леса //Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 т. — М.: Художественная литература, 1979. Т. 2 — С. 51–87
- Фтабатэй Симэй. Мои принципы художественного перевода. Пер. Р. Карлиной. — «Восточный альманах». М., 1957, с. 384–388.
- Хетени Ж. Идея в образах, абстрактное в визуальном. Фигуры-образы Исаака Бабеля // Russian Literature. 1999. № 1. С. 75–85.
- Цоктоева Т. Н. Первый из японских русистов // 100 лет русской культуры Японии. М., 1989. С. 23–37
[1] Девиз императора Муцухито, означающий «просвещённое правление»
[2] Другие его псевдонимы – Кёу, Рэйрэйтэй
[3] Старое название Токио
[4] Традиционная причёска самураев в виде пучка волос на затылке при бритом лбе
[5] Обладание фамилией было привилегией, признаком высокого статуса, простолюдины не имели фамилий
[6] Частная начальная школа в период Эдо, где главой и наставником часто был самурай
[7] Хаяси был противником реформ и реставрации власти императора
[8] Мифическое существо с телом рыбы и головой тигра. Японцы верили, что он является поглотителем злых духов, их традиционно крепли на крышах домов
[9] Политическое объединение, выступавшее за народный парламент. Большинство его членов принадлежало к сословию нетитулованного дворянства сидзоку , бывших самураев
[10] Впоследствии университет Сеншу
[11] Впоследствии Токийский университет иностранных языков.
[12] Псевдоним революционера-народника Николая Васильевича Чайковского. В 1871 г. он стал одним из организаторов политического кружка «Чайковцы», членами которого являлись С.Л.Перовская, П.А.Кропоткин, Н.К. Лопатин и др. После разгрома кружка, скрываясь от полиции, эмигрировал в Америку [6]
[13] Цивилизация и просвещение
[14] Широкие шаровары в складку, часть японской официальной одежды
[15] До переворота Мэйдзи в Японии говядину в пищу не употребляли
[16] Всеобщее право носить официальную фамилию в Японии появилось лишь на 7 год Мэйдзи (1875)
[17] Эта инвектива станет псевдонимом, известным сегодня как Фтабатэй Симэй. Французы её переводят как Va au diable (иди к чёрту), на английском – Drop dead (чтоб ты сдох)
[18] На первой же странице оригинала мы находим такие слова, как дурак, мошенник, пьяница, разбойник, негодяй, потаскушка, сухарь поджаристый , которыми жена характеризует своего мужа.
[19] Включение музыкальных мотивов в текст с целью усиления какой-нибудь темы или пробуждение определённых ассоциаций
[20] Народное песнопение, как правило, во время кукольных или театральных представлений
[21] Книги шутливого и легкомысленного характера, так называемая литература «смеха и слёз» до периода Мэйдзи
[22] Форма записи слов с помощью иероглифов, подобранных фонетически или по смыслу для передачи иноязычных реалий (названий государств, имён, понятий)
[23]Знания, очевидные для носителей языка, но не выраженные впрямую
[24] Название частицы –с , которая употреблялась для придания оттенка вежливости: да-с, нет-с и т.п.
[25] Буквально: «слово и письмо – одно целое» (пер. с яп.)
[26] Пахарь, землепашец (пер. с араб.)
[27] «Записки» считают творческой переработкой незавершенной комедии «Владимир 3-й степени»
[28] Иллюстрированный еженедельник издавался в Иокогаме русским журналистом Л.Подпахом. Журнал был создан для того, чтобы знакомить русское общество с политической, экономической и общественной жизнью стран Дальнего Востока – Японии, Китая, Кореи.
[29] Русский публицист и литературный критик (1817-1887), редактор газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник»

