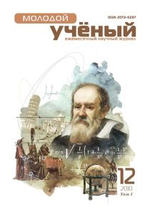Отличительное свойство произведений С. Кржижановского (1887-1950) заключается в том, что ирония, парадокс и абсурд ситуаций и высказываний позволяют участвовать в мета-языковой игре и тем, кто её не понимает, воспринимая слишком серьёзно, и тем, кто воспринимает её как сказки, фантазмы. По свидетельству В. Перельмутера, писатель пронёс через всю свою жизнь глубокую увлечённость проблемами музыкального искусства [16, с. 594]. Контексты, в которых упоминается «музыка» в произведениях Кржижановского, весьма многочисленны и многообразны. Мотив музыки в его творчестве, употребление концептов, так или иначе связанных с музыкой, позволяет утверждать мысль о её философском понимании писателем. Музыкальная тема заявлена во многих новеллах писателя: «Сбежавшие пальцы», «Соната ″Deat’s Door″», «Чётки», «Чужая тема», «Клуб убийц букв», «Немая клавиатура», «Смерть эльфа», «Обиженное ля-бемоль».
Наша задача – рассмотреть, как представлены парадоксы музыки, эстетика музыкального абсурда в новеллах «Немая клавиатура» (1939) и «Смерть эльфа» (1938) С. Кржижановского, а также выявить прямую связь, существующую между музыкальным авангардом и поэтическим миром прозы писателя, показать специфику взаимодействия культурных кодов с точки зрения их музыкальной, пространственной и ономастической функциональности.
Новеллы Кржижановского «Немая клавиатура» и «Смерть эльфа» отсылают нас к музыкальной жизни на Западе и в России, когда в 10-20-е гг. XX в. русскими композиторами (И. Стравинский, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Д. Шостакович) осваивались и теория додекафонной техники (серийная и атональная музыка) новой венской школы (А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн), и музыкальный опыт содружества французских композиторов (1917 – 1922 гг.), которых музыкальный критик Анри Колле назвал «Шестёркой» (А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Л. Дюрей, Ж. Тайфер и Ж. Орик) [17, с. 168].
Новелла «Немая клавиатура» – блестящий прогноз сущности музыкального авангардизма в европейском искусстве XX века. Речь идёт о музыкальном эксперименте, который напоминает деятельность западных композиторов, чья творческая направленность обычно обозначается словом «авангард». Под лозунгами авангардизма выступают авторы и теоретики серийной и конкретной, алеаторической и пуантилистической, сонористической и электронной музыки [13, с. 27]. В авангардизме, по мнению музыкального русского критика Д.В. Житомирского, доминирует единая, в сущности, концепция, которая и определяет конкретные задачи художников: создание образов иной реальности; использование «нового звукового мира» как неограниченного ассортимента неожиданностей и экстравагантностей в виде саркастических «пародийных кунштюков, изобличающих устарелость и иллюзорность всё ещё ценимых людьми сокровищ духовной культуры» [7, с. 42]. Испанский философ Ортега-и-Гассет назвал эту концепцию «дегуманизацией искусства». «Со всех сторон, – писал в 20-х годах философ, – мы приходим к одному и тому же – к бегству от человека» [15, с. 255].
Сюжет новеллы «Немая клавиатура» строится на парадоксе, который противоречит логике концертного исполнительского искусства и становится средством разоблачительного, сатирического, абсурдного изображения. Оппозиции, наблюдаемые в плоскости парадокса авторской мысли, выражены имплицитно и эксплицитно, поэтому для расшифровки авторской идеи важны не только макро- и микротекст, но и значимость метатекста.
Парадоксальность описанной ситуации в «Немой клавиатуре» в том, что гастролирующий пианист (имя его не названо) – исполнитель фортепианной музыки на «немой» клавиатуре. Название новеллы, а также двучастная композиция: описание концерта заезжего пианиста и разговор, состоявшийся в ресторане после концерта между пианистом и музыкальным критиком из России, пытающимся понять, кто он, этот музыкант - «авантюрист или талант», дают ироническую установку на исполнительскую игру, которая оказывается игрой по отношению к культуре, традициям, общепринятым нормам. Таким образом, ирония и пародия становятся творческим принципом, организующим текст новеллы как единое целое. Как совершенно справедливо отмечает С.А. Голубков, пародийному осмеянию могут подвергаться «не только литературные первоисточники», но и «явления общественной жизни, бытового этикета, ритуалы, официальные церемонии ‹…› с помощью соответствующих слов, «взрывающих», «опрокидывающих» серьёзное описание» [2, с. 122].
Пародийное снижение начинается с перекодировки жизненной ситуации культурно-музыкального характера, включающей появление афиши в городе и объявления в местной газете: «Узкий бумажный прямоугольник в синей рамке как-то незаметно прилип к афишной доске среди других гораздо более пространных и пёстрых оповещений. Синий прямоугольник называл ‹…› имя какого-то заезжего пианиста, исполнителя фортепианной музыки на – следовала крупно-буквенная строка – НА НЕМОЙ КЛАВИАТУРЕ. В куцей газете, выходящей по вечерам, новое явление было отмечено четырьмя выжидательными строчками» [8, с. 167].
Создание сатирического и комического эффекта достигается речевой аранжировкой авторских фраз, обрисовывающих атмосферу концерта и действия музыканта на сцене: «Наконец прожужжал звонок, и слушатели расселись по местам. На эстраде появились двое служителей, которые откатили блещущий чёрным лаком рояль в сторону. Третий принёс небольшой, длиною, скажем, в детский гробик, ящик, поставил его на стол и отщёлкнул крышку: под ней, как под откинутой верхней губой, - плоские жёлтые зубы немой клавиатуры с чёрными вставышами минора» (167-168). Пианист, «высокий узкоплечий человек в длинном чёрном сюртуке», встреченный «несколькими негромкими хлопками», «пригладил ладонью левой руки редкие волосы над высоким крутым лбом, присел на стул у немого инструмента, подышал на длинные костистые пальцы кистей – и вдруг рухнул всеми десятью на клавиатуру. Клавиатура ответила абсолютным молчанием. Пальцы двигались, как молоточки рояля, не встречающие струн. Первая фаланга подбрасывала вторую, вторая еле слышно цокала острием ногтя третьей, костью о кость. Мерные пассажи сыпались как песчинки сквозь устья стеклянных песочных часов. Затем – вдруг - обе руки повисли в воздухе, ногти застыли, как роговые концы лап хищных птиц, превращённых в чучела и выставленных в зоомузее. Пианист встал и шагнул к выходу. Раздалось несколько растерянных хлопков. Он раздражённо обернулся и голосом немного глухим, но ясным бросил: - Молчание просит молчания» (168).
Объектом пародии для автора становится фигура «лаурета немой клавиатуры». Нагнетание шаржированных деталей и монтаж карикатурных образов (концертный зал - гулкий, как «пустой, бесструнный рояльный ящик»; рояль – «ящик длиною в детский гробик» с «плоскими жёлтыми губами»; музыкант, «рухнувший всеми десятью костистыми пальцами на клавиатуру»; руки музыканта, «похожие на лапы хищных птиц, превращённых в чучела и выставленных в зоомузее»; клавиатура «с абсолютным молчанием») эксплицитно передают оппозицию между традицией, нормой исполнительского мастерства музыканта-профессионала и абсурдностью, нелепостью, противоестественностью его поведения на сцене. Ирония автора – свидетельство негативного настроения, издёвки над непонятным, чуждым искусством, вызывающим отрицательные эмоции – недоумение, отвращение. Новый стиль музыкального искусства, лишённый какого-либо трансцендентного смысла, рассчитан на то, чтобы его сближали с праздничностью развлечений, шаржем и клоунадой.
Как видим, ставится под сомнение эстетическая ценность музыки как вида искусства. Второй выход пианиста сопровождался полной тишиной в зале: «Лауреат немой клавиатуры вошёл на этот раз с мрачно опущенной головой. Он шагал, будто обходя какие-то ямы. Сел у рояльного ящика и выдержал паузу в несколько секунд. В зале воцарилась тишина. Первый аккорд вдавился в глубину клавиш. Затем правая рука упала вниз, а левая лёгким неслышным ветром пронеслась по чёрным клавишам. <…> Крупные капли пота проступили на лбу виртуоза. Вдруг, ухватясь двумя руками за чёрную крышку клавиатуры, он защёлкнул её с такой силой, что в зале раздалось два или три истерических женских вскрика. Молодой музыкальный критик шепнул соседу: «Замечательно». После концерта публика расходилась, думая не столько о концерте, сколько о дожде, под холодные капли которого надо было сейчас идти» (169).
В качестве характерного примера тех пессимистических настроений, которые зачастую порождало в начале 20-х гг. появление новых явлений в русском и зарубежном искусстве, приведём строки из статьи «Предвидения» (1922) известного русского искусствоведа П.П. Муратова: «Художник перестал видеть и чувствовать по образу своему и подобию. У мира изображаемого нет того центра, каким был человек. Сама видимость человека подлежит разъятию, расчленению на те же первичные элементы, на которые разлагается видимость предметов. Нет чувства организма ни в природе, ни в человеке, но есть взамен того сознание конструкции» [14, с. 29].
Мысли П.П. Муратова о «разъятии» и «расчленении» искусства во многом совпадают с представленной в своей изобразительной рельефности картиной абсурдного «разъятия» и «умертвления» музыкального произведения в исполнении заезжего музыканта. Утрата логических связей музыкального творчества пианиста в контексте новеллы свидетельствует об утрате исходных качеств музыкальной культуры и исполнительского мастерства в их традиционном понимании. Принципом в эстетике музыкального абсурда становится разрыв означаемого и означающего. Но безусловно значимым оказывается и то, что музыка абсурда, «немая» музыка, становится актуальной ради восстановления нормы. Поэтому следующий фрагмент второй части новеллы чрезвычайно важен для понимания поэтики абсурда исполнительского мастерства лауреата фортепианной музыки.
Музыкальный критик, встретившись с пианистом немой клавиатуры в ресторане после концерта, пытается узнать природу новой музыки, разобраться в сущности возникновения нового явления в музыкальной культуре и установить, нет ли тут издевательства над слушателями и ценителями музыки. Исповедуя свою историю, пианист не скрывал, что когда-то он играл на «говорящих клавишах», пытаясь «рассказать людям Бетховена, Скрябина, Моцарта», но очень скоро пришло разочарование: пришло убеждение, что он «имеет дело с глухонемыми»: «Они не слышат музыки, а когда они пишут о ней, то строки всех их статей молчат, молчат тысячами чёрных знаков. ‹…› Мы стучимся в души людей, и нам отвечают только молчанием. Что ж, я и решил говорить с глухонемыми глухонемой клавиатурой. Это был рискованный трюк, но он мне удался. Если бы вы знали! – когда я играю на этих молчащих чёрных и белых клавишах, ведь я же слышу мои мысли, ведь я же вдавливаю концами вот этих пальцев мою любовь и грохочущую ненависть в костяные планшеты» (170). В ходе разговора выясняется, что идея «немой» клавиатуры возникла у пианиста после прочтения одной из новелл В. Одоевского из «Петербургских ночей» - «Последнего квартета Бетховена»: «Так вот, в этом рассказе говорится о том, как престарелый мастер ‹…›, присев к лишённому струн клавесину, вдавливает в мёртвые клавиши свои мысли. Он их слышит, но мы, мы, глухие нетопыри…» (172).
Имя Бетховена аккумулирует целый ряд ассоциаций и выполняет в контексте новеллы дополнительную, метаописательную функцию. Ситуация абсурда игры на «немой клавиатуре» и сама пародийно-гротескная фигура музыканта, обрисованные в первой части новеллы, переходят во второй части новеллы в иную плоскость - философско-эстетическое осмысление природы музыки, в которой скрыто некое метафизическое содержание. Неслучайно венские классики – Гайдн, Моцарт, Бетховен, а также немецкие писатели-романтики, считали музыку «выразителем бесконечного». В данном случае для нас важна точка зрения Н. Болдырева, который, пытаясь разобраться в «особости» божественности музыки великих композиторов, отмечает такое её свойство, как «невозможность реализовать идеал на Земле»: «Большая музыка» стремится передать тишину. Её колдовство. И это, конечно же, не Кейдж придумал и не дзэн-буддисты. Это в сути музыки. ‹…› Музыка же, пытающаяся передать волшебство тишины – безбрежной и беспредельной – не побуждает человека к каким-либо психическим действиям. Она ни к чему не побуждает. Она не вмешивается в психическую жизнь человека. Она просто подводит его к границе тишины» [1, с. 453].
А вот отзыв А. Рубинштейна о музыке позднего творчества Бетховена: «Последние фортепианные сонаты, последние струнные квартеты, Девятая симфония и т.д. мыслимы только при глухоте его; только она смогла создать эту безусловную сосредоточенность, это перенесение себя в другой мир, эту звучащую душу, эти прежде никогда не слыханные жалобы, это вознесение от всего земного ‹…›. Но всё-таки самое высокое, самое неизмеримое он создавал, только бывши глухим…» [3, с. 218].
Следовательно, оправдание смысла эксперимента, на который решается лауреат «немой клавиатуры», и парадокса в данной абсурдной ситуации следует искать в творчестве великого Бетховена, к имени которого так привержен лауреат «немой клавиатуры». Бетховен, «глухой музыкант», «слушающий мир», «вдавливающий в мёртвые клавиши свои мысли» и слышащий их, в своём опыте близко подходил к тишине, к «мировому снятию музыки», что позволяет говорить о загадочности и неразгаданности формулы великой музыки.
Музыкальный критик, как оказалось, прибывший из России («Я русский. Здесь я на краткое время»), увидел в «более чем странном концерте» диалектический смысл: «Расскажу моим московским друзьям о вашем более чем странном концерте. В нём есть свой, я бы сказал, диалектический смысл. Там, где жизнь под подошвами демпферов, ваша немая музыка звучит, я бы сказал, оглушительно» (173).
Мысль о диалектической природе музыки и звука отсылает нас к работе русского философа А.Ф. Лосева «Музыка как предмет логики» (1927), который, затрагивая вопрос о феномене музыки, останавливается на специфике музыкального переживания и музыкальном познании и развивает феноменологический подход к музыке, называя его «феноменолого-диалектическим методом» в плоскости абстрактно-логического знания и абсурдного сознания. Музыка, как утверждает Лосев, познаёт мир во вне-пространственных категориях. «В музыкальном бытии нет предмета, к которому можно было бы обратиться, который можно было бы назвать. Это с точки зрения пространственного предмета – абсолютная пустота, слышимое ничто» [10, с. 208]. Музыка снимает категории ума и всяческие его определения, уничтожая логические скрепы сознания и бытия. Так, установка на алогизм и абсурдизм музыкального отражения дана в названиях пьес, которые исполняет на немой клавиатуре пианист: «Часы остановились, но они напоминают о том времени, когда они шли», «Умирающее кладбище», «Человек спит и не видит снов», «Глухонемой марш для безногих». Здесь мы видим аналог того, что делали в своём литературном творчестве обэриуты (А. Введенский, Д. Хармс), которые понимали музыку абсурда как стихию и заимствовали у неё принцип динамической алогичности и стихийного инобытия смысла [18, с. 16]. Сопоставление литературного и музыкального абсурдизма было подсказано другом Д. Хармса, философом Я. Друскиным, который, заинтересовавшись атональной музыкой новых венцев (Шёнберг, Берг, Веберн), рассматривал абсурдизм поэтического языка Д. Хармса и А. Введенского на музыкальном материале авангардной музыки, уподобляя принцип атональности в музыке принципу алогизма в поэтическом искусстве, и ввёл для описания словесной бессмыслицы обэриутов понятие «чинарного языка» [6]. Я.С. Друскин, рассуждая об атональной музыке, относит её к минус-приёму как отрицанию плюс-приёма тональности. «На фоне плюс-приёмов отсутствие одного из приёмов будет минус-приёмом. Полный распад приёмов – молчание. Может быть безмолвный язык, … а безмолвная музыка? Не знаю. Не отрицаю, а только не знаю» [5, с. 735]. Подобный минус-приём – «безмолвная» музыка, «немая музыка», «прозвучавшая» на концерте «лаурета немой клавиатуры», – это и есть парадокс музыки и поэтика абсурда, то есть то, что относится к важнейшей сути великой и серьёзной музыки - её тишине и скрытому в ней метафизическому смыслу. Не есть ли эксперимент «мастера немых клавиш» - стремление к такому безмолвному языку, к безмолвной, молчаливой музыке как отражению творчества представителей новой венской школы. Стремление к абсурдной музыке, то есть, относящейся к surdus (ab + surdus), что означает с латинского - к глухому, беззвучному, безмолвному, немому, нелепому, тишине, возвращает нас к гармонии-тишине, ибо гармония и есть тишина.
Очевидно, проводя аналогию с принципами алогизма в поэтическом искусстве обэриутов в 1920-1930-е гг. (фиксация онтологической бессмыслицы – языковой, логической и ситуационной) и с живописной техникой супрематизма (разработанной К. Малевичем в 1910-е гг.), Кржижановский задаёт вектор рассмотрения данной парадоксальной ситуации, доведённой до абсурда, основываясь на материале авангардной музыки – атональной музыки новой венской школы, существовавшей в 1925-1933 гг.
Достаточно красноречивые аллюзии, которыми наполнен текст новеллы Кржижановского (новаторство лаурета немой клавиатуры; приверженность его к творчеству Бетховена; название исполняемой музыкантом пьесы «Марш для безногих», созвучное с названием второй части «Героической симфонии» (1802-1804) Бетховена - «Траурным маршем» - музыки, полной возвышенной скорби и внутренней сосредоточенности; западный колорит – название блюда, заказанного в ресторане Asti spumante, название полусухого вина «деми-сек», имя официанта Гарсон), отсылают нас не только к венской классической школе, вершиной которой явилось творчество Бетховена, оказавшего влияние на дальнейшее развитие мировой музыкальной культуры, но и к тем преобразованиям, которые были сделаны нововенцами во главе с А. Шёнбергом.
Парадокс «немой» клавиатуры – это непосредственное выражение философии «музыкального языка», имплицитно раскрывающего смысловую целостность и ценность композиторского замысла. Несомненно, прав А.А. Григорьев, который замечает, что исполнительское интонирование, несмотря на реальную объектность музыкальной партитуры, «предполагает наличие пауз, эксплицирующих семантику музыкального произведения, подобно тому, как молчание включено в речь в виде разъединяющих и одновременно сочленяющих смысловых пауз». Как «говорение невозможно в виде непрерывного процесса, в нём есть место молчанию, членящему речь на осмысленные сегменты, делающему речь дискретной и в то же время осмысленно-связной», так и в музыке феномен молчания «открывает трансцендентный смысл музыкального творения в его устремлённости к обретению смысловой целостности и ценности» [4, с. 73]. Исходя из этого, М. Хайдеггер, в свою очередь, рассматривает молчание как сущностную возможность речи, имеющую собственный экзистенциальный фундамент: «Только в настоящей речи возможно собственное молчание. Чтобы суметь молчать, присутствие должно иметь, что сказать, т.е. располагать собственной и богатой разомкнутостью самого себя» [19, с. 165]. Молчание в виде смысловых пауз может приобретать не только определённый, конкретный смысл в контексте речи или музыкальном произведении, но и определённую сакральность (религиозный смысл, просветлённое состояние, безмолвность как первооснова бытия) в раскрытии смысловой целостности.
Следовательно, парадоксальность музыкального эксперимента, нашедшего отражение в новелле Кржижановского, получает феноменологическое обоснование и в философии музыки, и в музыкальном западном авангарде начала XX века.
Крайняя форма музыкального абсурдизма, интуитивно и красноречиво обыгранная в новелле, получила своё воплощение в реальной жизни – чутьё философа и художника не обмануло автора (напомним, что новелла «немая клавиатура» написана в 1939 г.). Правда, встретиться с музыкантом немой клавиатуры читателю придётся через 15 лет на концерте американского пианиста-авангардиста Джона Кейджа (1912 - 1992), повторившего эксперимент лауреата «немой клавиатуры» в 1954 году.
В начале 40-х годов, по воспоминаниям Алана Уотса, Джон Кейдж интересовался отношением музыки к дзен-буддизму и исследовал музыку тишины. В своих воспоминаниях Уотс пишет: «Меня привлёк в Джоне главным образом близкий мне род юмора… он вознамерился дать «клавирабенд» и выйти во фраке, с ассистентом для перелистывания страниц, а партитура концерта должна была состоять из одних пауз. Вся соль заключалась не только в том, что он мог себе всё позволить в безнадёжно спятившем с ума мире музыкального абсурда и был, таким образом, самым большим шарлатаном из них всех, но и в том, что он таким образом открыл, как слушают тишину, и захотел продолжить этот медитативный процесс, повести его дальше» [20, с. 187]. Уотс хочет сказать, что «немые концерты» Кейджа были пропагандой учения дзен. Музыкальная энциклопедия отмечает интуитивизм Кейджа, любовь его к парадоксу: «доктрина пустоты», или «теория тишины», заимствованная им из дзен-буддизма, освобождает от всех условностей [11, с. 767]. С 50-х гг. XX века в музыке, как и в других видах искусства (например, в театре), складывается такое направление, как хепенинг (от англ. happening – «случающееся», «происходящее» или happen – «случаться», «происходить»). Его истоком можно считать произведение Джона Кейджа «4’33» (1954 г.). «На сцену выходит пианист, который четыре минуты тридцать три секунды молча сидит за роялем, потом встаёт и уходит. Премьера прошла со скандалом: просвещённая публика решила, что над ней просто издеваются, а обыватель получил возможность снисходительно заметить: «Так и я могу». Публика негодовала на «сеансах тишины» Кейджа. Он же делал ссылки на свои познания в дзен» [21, с. 25-26]. «Музыкой» в данном случае становится принципиально не музыка, а все случайные и разрозненные элементы жизни исполнителя и публики: их дыхание, покашливания, шёпот, реплики, скрип стульев, шум проезжающих по улице автомобилей и т.п. Публика и музыкант таким образом выступали в роли авторов стихийно возникшей пьесы. Философским обоснованием такой эстетической практики являлась одна из версий дзен-буддизма, в которой «чрезмерно педалирован тезис о смысловой, этической и эстетической равнозначности всех проявлений и элементов жизни («Будда во всём»), в чём-то тождественной пантеизму немецких мистиков» [7, с. 75]. В Европе философию музыки Кейджа первым воспринял К. Штокхаузен. От него же «вседозволенности» учились другие композиторы авангарда – западногерманские, французские, итальянские, голландские. Волна прекратилась, оставив за собой разрушения и в музыке и в сознании слушателей» [7, с. 257].
Один из самых распространённых приёмов дзен, который демонстрирует Кейдж в своём творчестве, а Кржижановский в своей новелле - это как раз парадоксальное смещение границ общепринятого, ошеломляющее видимой абсурдностью и освобождённостью от всех условностей, получающее своё крайнее выражение в «музыке молчания». Музыка превращается из слухового образа в образ зрительный - исполнение произведения становится беззвучной пантомимой.
Ортега-и-Гассет в своём трактате «Дегуманизация искусства» (1929), анализируя новый стиль искусства в начале XX века, выделил в нём следующие взаимосвязанные тенденции: тяготение к глубокой иронии, стремление понимать искусство как игру, деформирование реального и его стилизация, создание подлинного акустического субстрата музыки. «Кто знает, – восклицает испанский философ, современник Кржижановского, - что может вырасти из этого нарождающегося стиля! Чудесно уже то, за что теперь так рьяно взялись, - творить из ничего» [15, с. 259].
Подобное творение «из ничего» мы наблюдаем «у мастера молчащих клавиш». Различные теории музыкального авангарда: феноменологический подход к музыке как стихийному инобытию смысла (А.Ф. Лосев); молчание и тишина в музыке как минус-приём в понимании её диалектической природы и скрытого метафизического смысла (Я. Друскин); молчание и тишина как сущностная характеристика экзистенциального фундамента разомкнутости музыкальной природы звука (М. Хайдеггер); знаково-актуальное членение «музыкальной речи» в процессе исполнительского интонирования музыкального произведения – в конечном итоге привели к деформированию реальности, стилизации, субъективизму творчества, пониманию искусства как игры, переходу от изображения предметов и чувств к изображению идей.
Вся совокупность поэтических средств музыкального абсурда формировала новое эстетическое восприятие, которое явилось предвидением Кржижановского и опередило своё время. Так, воплощённые в художественном пространстве текста новеллы «Немая клавиатура» парадоксы музыки и поэтика абсурда стали реальным продолжением «молчащей клавиатуры» Джона Кейджа, обоснованной им как «доктрина пустоты и тишины». Если в западном музыкальном и театральном авангарде хепенинги появились в 50-е гг., то в России принципы атональности стали применяться лишь на рубеже 60-70-х гг. XX в. В дальнейшем определённое духовное состояние эпохи модернизма, доведённое до разрушения и деформирования прошлого, привело к абстракции в живописи, минимализму в архитектуре, немоте и белой странице в литературе (коллажи У. Бэрроуза).
Как видим, в контексте новеллы «Немая клавиатура» воплощена ситуация музыкального абсурда начала XX в. Однако ответом новому музыкальному языку и созидателям нового ощущения жизни в авангардной музыке является другая новелла Кржижановского - философская сказка «Смерть эльфа» о природе музыкального искусства и метафизике музыкального творчества. Идея сказки заключается в признании невозможности уничтожить прошлое (оригинальность, личное своеобразие художника, его талант) и приглашении читателя к ироническому переосмыслению новой эстетики, субъективного изображения «творческой воли» и гибели таланта, способности творить «из ничего».
Во второй новелле – «двойчатке» (композиционный приём, нередко используемый Кржижановским для построения своих циклов рассказов, когда одна и та же тема разрабатывается автором по-разному и рассматривается в ином ключе) разыгрывается ситуация, казалось бы, нелепая и фантастическая, в которой повторяются, углубляются вариации на тему музыкального творчества, заданные в «Немой клавиатуре». В основу анализируемой новеллы положены сюжетные конвенции, отражающие условный тип мифологического мышления – post hoc – ergo propter hoc (после этого – значит по причине этого): гибель таланта, исчезновение музыкального дара происходит, когда умирает божественный эльф, случайно вселившийся в виолончель музыканта.
Ключевые слова, образы, их семантические компоненты повторяются в текстовом пространстве обеих новелл. Если проследить употребление лексемы «музыка» в новелле «Немая клавиатура», то можно отметить, что её контекстуальными синонимами являются «абсолютное молчание», «молчащие чёрные и белые клавиши», диалог «с глухонемыми глухонемой клавиатурой». В новелле «Смерть эльфа» музыка - это «песни, лёгкие как запах трав и цветов», «сон», «сказка», «радость», «счастье», «гармония». Музыка становится в один ряд с темой божественного, трансцендентального, духовного и разумного, глубоко обоснованного эстетического восприятия.
Начало новеллы – своеобразная перекличка с комедией Шекспира «Сон в летнюю ночь», в которой весёлый, проказливый эльф Пэк задаёт поэтический тон волшебного, таинственного мироощущения пьесы. В начале своей новеллы-сказки «Смерть эльфа» автор полушутливо сообщает, что этот эльф «эльфствовал по свету» до тех пор, пока не нашёл пристанища в виолончели одного никому не известного, заурядного музыканта.
Жизнь провинциального музыканта Фридриха Флюэхтена протекает в двух измерениях: до «вселения» божественного эльфа в виолончель, на которой играл музыкант в кафе «под звон рюмок», «скучный стук тарелок» и «шаркающие шаги официантов», и после появления эльфа в виолончели, где он нашёл «безопасное пристанище», «спасаясь от антиэльфов». Музыке Флюэхтен учился «много и прилежно», он «таскал свою музыку под левым локтем», которая «была запрятана в коричневый чехол», «водил своим смычком, как швея иглой, но не сшил себе даже самого малого подобия славы (175).
Неожиданное появление эльфа в музыкальном инструменте Флюэхтена показывает, как божественное начало, которое он олицетворяет, становится предметом ассоциативной игры, переносящей в новый контекст закреплённую за ним функциональную мотивировку. У виолончели появляется новое звучание. С каждым выступлением музыкант стал замечать, что пьесы, которые он играл, очень нравились струнам его виолончели – «хотя бы потому, что они поют какими-то новыми, чистыми, как звоны лесных ручьёв, голосами»; в очередной раз «пение» виолончели «вдруг заставило людей, громко шагавших между столиков, приостановиться, лакеев с дымящимися целлулоидными блюдами в руках застыть на месте, а несколько десятков стульев, повёрнутых спинками к эстраде, осторожно приблизить к ней свои передние ноги» (178). С вселением эльфа в виолончель к Флюэхтену пришли талант, удача, успех, перемены в жизни: жалованье его удвоилось, его стали называть «маэстро», слава «начинала своё торжественное шествие вверх и вверх». Музыканту было всё это непонятно, он терялся в догадках, но «эльфу всё было ясно». Получив «приют и кров внутри виолончельной коробки, он не хотел оставаться неблагодарным» и, «как все честные эльфы», старался «аккуратно уплачивать свою квартирную плату», перепархивая «со струны на струну, с лада на лад, рождая новые и новые мелодии», «суфлировал» музыканту по ночам сны, песни, «лёгкие, как запах трав и цветов», которые он записывал, «торопливо присев к столу», и «снова возвращался к подушке». Музыкальные критики писали: «Своеобразное явление, хотя…», потом «хотя» было изгнано из рецензий, позднее: «Исключительное явление», неделей позже: «Талант», три дня спустя: «Огромный талант, какого не…» (180). Но однажды случилось непоправимое: «перед анданте кантабиле сопровождающий Флюэхтена оркестр на минуту умолк, солист вытер носовым платком струны своего инструмента» и, прижав сурдину к нижним «оконечинам» струн, нечаянным движением раздавил «своего гостя, божественного эльфа», услышав при этом лишь «какой-то скользящий, похожий на прикосновение ногтя к фарфору звук». После смерти эльфа тотчас же вместо гармонического созвучия слуха его коснулось «какое-то скрипучее, с деревянным призвуком сочетание элементов аккорда». Никто не заметил перемены в звучании, после концерта его поздравляли, жали руки, «только старый плешивый критик…что-то угрюмо отмечал в своей записной книжке» (182). Нервное потрясение, которое пережил Флюэхтен (отказался от ужина, в течение двух дней не выходил из своего номера), заставило его на утро третьего дня после концерта покинуть гостиницу и оставить в номере инструмент, не представляющий теперь для него никакой ценности: «Эльф умер. С ним умерла и музыка. Дерево осталось, остался резонатор, смычок, остались струны и колки, но музыка, жившая в них, ушла» (182). Завершает рассказ ироническая ремарка автора, отсылающая нас к контексту первой новеллы «Немая клавиатура»: «Местопребывание и дальнейшая судьба Фридриха Флюэхтена так и остаются до настоящего времени нераскрытыми».
Внутренняя семантическая структура обеих новелл и их символическое содержание оппозиционно обозначают иерархию художественных ценностей, только в их обратной причинно-следственной связи: если наступает «смерть эльфа» - смерть божественной сущности музыки, то наступает время «немой клавиатуры» - время «ничего», абсурда молчания и тишины - поэтому дальнейшая судьба Флюэхтена, «раздавившего» гармонию, находит своё продолжение в мастере «молчащих клавиш». В этой связи, очевидно, и объясняется авторская перестановка новелл, датированных в обратной последовательности. По кольцевой композиции сюжет первой новеллы возвращается к своему началу – второй новелле «Смерть эльфа».
Чтобы понять сущность музыки в абсурдном мире, в новелле «Смерть эльфа» Кржижановский подходит к вопросу о том, в чём истоки суетности, «замутняющей» лик искусства от столетия к столетию. Музыка – порождение стихийного инобытия смысла, глубинный динамический процесс иноприродного. Здесь, как утверждает Н. Болдырев, «в целомудренной этой связи, в религиозной вибрации её (religare - «восстанавливать связь») и таится странный фермент, эта таинственная магия» [1, с. 447]. В контексте сказки «Смерть эльфа» подразумевается такое странное качество музыки, как её сверхреальность и сверхобращение, когда психологические эмоции, лежащие в основе музыкальных вибраций, очевидно выходят за пределы человеческого бытия. Божественная сущность музыки, подчёркнуто неземной её элемент, воплощённый в образе божественного эльфа, порождает чувство загадки и тайны, которое испытывает человек, приобщаясь к её красоте и совершенству, ясности и чистоте высшего порядка, распахивающие сферы неземного, ангельского мира. Вселился божественный эльф в виолончель Флюэхтена, и возникли таинственным образом «новый тембр», «хор обертонов», «непонятный звук», «звуковой феномен». Кто надиктовывает невозможное? Сначала Флюэхтен думал, что это галлюцинации, психиатр сказал ему, что «существуют и так называемые псевдогаллюцинации», затем музыкант решил, что это «явление внутреннего слышания». Версия Кржижановского, изящная и убедительная, высвечивает одну из возможных ипостасей измерения божественной природы звука и музыки.
Аномальный сказочный персонаж, божественный эльф, не просто игра воображения героя и прихотливая конструкция автора, он служит для выражения миросозерцания доминантных ценностей метафизического представления о музыке и божественной природы таланта. Вымысел, созданный автором, конструируется в конвенциональных номинациях, с помощью которых выделяются не только абстрактные, предметные сущности, связанные с волшебством, таинственностью, но обнаруживаются имплицитные отсылки к «Лунной сонате» Л.Б. Бетховена. Описание лунного пейзажа воспринимается в системе категориальных признаков волшебного и сверхъестественного, вымышленного: «В окно глядела – с миллионного этажа – луна. Флюэхтен закрыл от её света голову краем одеяла и заснул. Время повернулось к нему спиной. Внезапно что-то толкнуло его сердце, и он приподнялся на локте. За стеной часы тихо, но внятно отсчитали пять ударов. Луна ушла за пределы оконной фрамуги – и лишь её отражённый свет скользил по столу и листу линованной нотной бумаги, лежавшей поверх сукна. Оттуда, из угла комнаты, где на короткой деревянной ножке стояла виолончель, слышался тихий струнный шорох» (176).
Изображая божественного эльфа, принадлежащего к светлым силам природы, в традициях средневековой германской мифологии (светлые эльфы – духи воздуха, атмосферы, любят водить хороводы при лунном свете, их музыка зачаровывает слушателей, заставляет танцевать даже неживую природу [12, с. 661]), автор всё же вносит фантастические допущения в границах сказочного контекста и актуализирует новые конкретные смыслы, которые декодируются в читательском сознании и воспринимаются как метафизические, приобретая иную ценностную нагрузку. Эльф антропоморфизируется («искал безопасного пристанища», «влетел испуганный», «получив приют и кров внутри виолончельной коробки, он не хотел оставаться неблагодарным», «как все добросовестные жильцы, он старался аккуратно уплачивать свою квартирную плату») и отождествляется с божественным существом, которое преобразует игру Флюэхтена на виолончели в «своеобразное явление», «исключительное явление», а самого музыканта наделяет «огромным талантом, какого не…» (180).
Образ виолончели становится лейтмотивом произведения и служит отражением своеобразного мировосприятия героя. Виолончель, персонифицируясь, воспринимается одновременно и как метафора «спутницы музыкальной жизни» Флюэхтена, и как живое существо со свойственными ему качествами характера и человеческой анатомией. Чудесное преображение виолончели, оказавшейся способной извлекать волшебные звуки, является отражением внутреннего состояния Флюэхтена, метафорой его души. Если раньше он «таскал» свою «спутницу», которая издавала «жалобный стон», то после вселения эльфа в музыкальный инструмент начинается быстрое продвижение Флюэхтена к славе и огромному успеху, даже триумфу. Утратив же способность производить невероято удивительные и необыкновенно волшебные звуки, «спутница музыкальной жизни» была оставлена в углу гостиничного номера за ненадобностью – поэтому закономерно и бегство героя.
Поэтика абсурда находит своё продолжение и в семантике имени-знака героя, который передаёт следующие значения составных элементов этой немецкой фамилии Флюэхтен: 1) flöten (играть на флейте) + echt (настоящий, подлинный); 2) Fluch, m (проклятие) + echt (настоящий, подлинный), 3) flüchten (бежать). Вскрытие и осознание структурно-семантических особенностей имени героя даёт нам образ, лежащий в основе внутренней формы немецких слов: 1) игра; 2) проклятие, 3) бегство – что актуализирует сам факт противоречия, абсурда, придавая ему повышенную информативность. Имя героя – это и лексический парадокс, что подчёркивает скрытые непредсказуемые потенции в поведении героя. Поведение Флюэхтена выстраивается на акцентируемых автором переходах от игры, к проклятию и бегству.
Концерт - сквозной мотив обеих новелл. Концерт виолончелиста Флюэхтена и концерт лауреата немой клавиатуры становятся переломным моментом во временной структуре сюжетов. Время, поступательно двигавшееся вперёд в обеих новеллах, разводится по противоположным векторам: настоящее – это время, в котором живёт Флюэхтен, будущее - это время, в котором живёт лауреат немой клавиатуры. Настоящее время без божественного начала в музыке – это прогноз будущего. Заголовки новелл «Немая клавиатура» и «Смерть эльфа» подчёркивают не только двуплановость общей композиции, но и параллельность двух временных потоков, топологически совпадающих с настоящим и будущим развитием культурного музыкального пространства. Так тема музыки ставится в один ряд с другими темами – времени, творчества, новаторства, божественной сущности таланта, смерти и бессмертия.
Связь музыки с талантом, божественным даром выступает весьма характерным комплексом. С одной стороны, смерть осмысляется как метафизическое явление и рассматривается как распад, разложение: смерть эльфа – это смерть божественной сущности музыки. С другой стороны, смерть эльфа – это смерть, гибель, утрата таланта, божественного дара. «Божественный эльф» – это олицетворение таланта, дара, который дан свыше и который можно легко потерять - «зарыть в землю» или, как у Кржижановского, - нечаянно «раздавить»: «А между тем всё объяснялось просто. Надвигая – во время концерта – деревянную сурдину, нечаянным движением он раздавил своего гостя, божественного эльфа, поселившегося в виолончели. Эльф умер. С ним умерла и музыка. Дерево осталось, остался резонатор, смычок, остались струны и колки, но музыка, жившая в них, умерла» (182-183).
Если парадокс великой музыки – это гармония, тишина, гармония тишины, то парадокс музыки в мире музыкального авангарда («молчащая музыка», пантомима, хепенинг) оправдывается различными феноменологическими теориями и приёмами абсурда, что создаёт новую эстетику современного искусства, и эта новая эстетика – более философия, чем искусство, это антиискусство. Оценивая сущность новейшего искусства в современном мире, М.А. Лившиц в так называемых хепенингах, когда искусство в прежнем смысле слова вытесняется общей изобразительностью, не требующей личных качеств творца, видит «торжество безумия», имеющее широкое распространение, в которое внесены элементы «нелепой игры»: «Если главное – это художник, а не его изображение жизни, то, в конце концов, он сам становится последним произведением искусства» [9, с. 179]. Сконструируемые Кржижановским парадоксы музыки и поэтическое воплощение абсурда в новеллах вовлекают читателя в некую «условную» игру, рамки которой определяются, с одной стороны, абсурдным экспериментом с «немой клавиатурой», а с другой - существованием и гибелью сказочного ирреального эльфа в познании метафизического смысла и гармонии музыки. Внимание писателя сосредоточено прежде всего на актуальных идеологических оппозициях между старым и новым искусством, которые отражают, с одной стороны, противоречивую сущность эстетических концепций в музыкальном авангарде, а с другой стороны, метафизическое и сакраментальное обоснование тайны музыкального творчества и божественной природы таланта.
Литература:
1. Н.Ф. Болдырев. Бог, любовь, смерть // И.-С. Бах. Моцарт. Шопен. Шуман. Вагнер: Биографические повествования. Челябинск, 1995.
2. Голубков С.А. Пародийная образность в творческом поведении и мышлении А.Н. Толстого // Проблемы изучения литературного пародирования. Самара, 1996.
3. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. М., 1982.
4. Григорьев А.А. Концепт и его лингвокультурологические составляющие // Вопросы философии. 2006. № 3.
5. Друскин Я.С. Лестница Иакова: Эссе, трактаты, письма. – СПб., 2004.
6. Друскин Я.С. Перед принадлежностями чего-либо. Дневники. 1963-1979. – СПб., 2001.
7. Житомирский Д.В., Леонтьева О.Т., Мяло К.Г. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. М., 1989.
8. Кржижановский С. Неукушенный локоть. Собрание сочинений. СПб., 2003, Т. 3. (Ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страниц в скобках).
9. Лившиц М.А. Искусство и современный мир. М., 1973.
10. Лосев А.Ф. Из разных произведений. М., 1990.
11. Любимов А. Кейдж // Музыкальная энциклопедия / Гл. Ред. Ю.В. Келдыш. М., 1974. Т.2.
12. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1992. Т. 2.
13. Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973. Т. 1.
14. Муратов П.П. Предвидения // Шиповник. Сборники литературы и общественности. Вып. 1. М., 1922.
15. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
16. Перельмутер В. Комментарии // Кржижановский С. Чужая тема. Собрание сочинений. СПб., Симпозиум, 2001. Т. 1.
17. Современная энциклопедия. Искусство. Музыка. Театр. Кино / Глав. ред. В.А. Володин. М., 2001. Т. 7. Ч. 3.
18. Фещенко В.В. «Чинари» и музыка // Русская литература. - № 4. – 2005.
19. Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad Marginem, 1997.
20. Watts A. Zeit zu Leben. Erinnerungen eines «heiligen Barbaren». Bern; München, 1979.
21. Hamel P.M. Durch Musik zum Selbs. Wie man Musik neu erleben und erfahren kann. München, 1981.